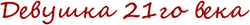Жизнь поколения Z формировалась в мире быстрых радостей. Дофаминовые всплески от скроллинга ленты, мгновенные покупки и миллионы лайков приносят быстрое удовлетворение, но имеют скоротечный эффект. На смену быстрому дофамину приходит потребность проживать свой опыт глубже, а именно нарабатывать так называемый эмоциональный капитал, который сохраняется на протяжении всей жизни и помогает легче преодолевать кризисы и временные трудности.
Чтобы понять, как это работает, мы обратились к известной паблик‑арт художнице Марине Звягинцевой, которая исследует, как эмоции получают форму и возвращаются к зрителю. В качестве научной опоры — нейроэстетика — дисциплина на стыке психологии, искусства и нейробиологии, изучающая, как мозг откликается на красоту. Почему же зумеры все чаще переключаются с быстрых удовольствий на глубокие впечатления, а «новым дофамином» для них становится именно паблик-арт? (читайте также: Эра цифровой скуки: почему мы теряем интерес к соцсетям)
Нейроэстетика: как искусство воздействует на мозг
Нейроэстетика изучает, какие процессы происходят в мозге, когда мы сталкиваемся с красотой. Ученые выяснили, что созерцание картины или инсталляции стимулирует ту же «систему награды», что задействуется при употреблении вкусной пищи или во время влюбленности. Например, нейрофизиолог Семир Зеки с коллегами наблюдали с помощью МРТ, как у испытуемых, разглядывающих любимые полотна, активируется орбитофронтальная кора и повышается уровень дофамина. Было установлено, что зеркальные нейроны, задействованные в этот момент, помогают нам эмпатически вовлекаться в то, что делает или чувствует другой человек. А эксперимент с голубями, отличающими Моне от Пикассо, свидетельствует: способность различать красоту не уникальна для людей, она основана на универсальных паттернах линий и цветов. Все эти открытия говорят об одном: эстетическое восприятие — это не поверхностное «приятно», а сложный отклик, в который вовлечены и мозг, и тело.

Уличные инсталляции и муралы делают нейроэстетику частью повседневной жизни. Паблик-арт работает как крючок: неожиданный образ прерывает автоматизм, вызывает всплеск эмоций и заставляет нас остановиться. В таких проектах зритель не отделен от объекта стеной музея, он оказывается внутри художественного поля, где можно проживать чувства. Художница Марина Звягинцева объясняет: «Эмоции — огромная энергия, которую можно приручить, если дать ей форму. По сути, это практическое применение нейроэстетики: искусство превращает абстрактные переживания в зримые образы, помогая увидеть, назвать и отпустить их» (читайте также: Можно ли приходить в музей нарядными и поворачиваться к шедеврам спиной: мнение эксперта по этикету).
Поколение Z: от быстрых удовольствий к глубоким впечатлениям
Зумеры — первое поколение, выросшее в то время, когда разговоры о психическом здоровье, экологии и социальной ответственности стали нормой. Они открыты к своим чувствам, ищут честный опыт и отказываются от идеи «подавлять эмоции». Психологи отмечают, что для устойчивости им важно видеть собственные переживания как поток энергии и уметь их называть. Поколение Z хочет быть услышанным и активно включаться в проекты, которые несут смысл: для них важно не просто смотреть, а участвовать, создавать что‑то, что меняет мир (читайте также: Когда каждое «нет» становится травмой: психология зумеров, которую тяжело понять миллениалам).
Одновременно зумеры устали от быстрых радостей и вместо них они выбирают впечатления, которые остаются в памяти и превращаются в эмоциональный капитал. Исследования подтверждают: художественные интервенции в городской среде снижают тревожность и негативный настрой, а эстетическое качество улучшает самочувствие не хуже чем пребывание на природе.

Публичное искусство отвечает этому запросу — оно вплетено в повседневный маршрут, доступно без входных билетов и встречает зрителя в его естественной среде. Это заставляет сделать паузу, задуматься и прожить эмоции здесь и сейчас. Эффект можно сравнить с «долгим дофамином»: впечатления от паблик-арт инсталляций остаются записанными на уровне памяти и чувств, а не исчезают с закрытием приложения.
Для поколения Z важно не просто любоваться занятными инсталляциями, а видеть за ними смысл — идею, способную менять общество и жизни людей. Для них искусство становится площадкой действия: они участвуют в перфомансах, поддерживают их и даже становятся со-авторами проектов, которые приносят реальную пользу. Отсюда такой интерес к искусству соучастия, когда зрители создают произведение вместе с автором.
Обратите внимание: Фотограф рассказал о том, почему папарацци больше не хочется следить за Сассекскими..
Это не просто опыт, а форма личного вклада и способ почувствовать себя частью чего-то большего. В конце концов, именно это стремление — проживать эмоции и влиять на мир — подводит нас к вопросу: что именно дает паблик-арт молодым людям.1. Соприкосновение с эмоциями
Порой увидеть и понять собственные чувства помогают самые неоднозначные и спорные арт-объекты. Одним из самых популярных кейсов стала «Большая глина № 4» Урса Фишера, в течение четырех лет украшавшая пространство Дома культуры «ГЭС-2». Некоторые при виде скульптуры приходили в гнев и недоумение, кто-то пытался шутить и проводил забавные аналогии, другие воспринимали произведение настолько серьезно, что мысленно уходили в дебри. Пожалуй, лишь с появлением на месте монумента «Садовой лопатки» авторства Класа Олденбурга и Кошье ван Брюгген, москвичи смогли точно определить, какие эмоции испытывали во время прогулок по одному из самых популярных пространств города.

Мультимедийный проект «Запертые чувства» Марины Звягинцевой напомнил о пережитых месяцах самоизоляции. Выставочное пространство превратилось в 700-метровую квартиру. Путешествуя по полутемным коридорам, наполненным предметами-инсталляциями: кроватями, огромными стульями в гостиной, холодильником с «замороженными чувствами», медиа-перформансом на экране вместо телевизора, гости выставки могли снова пережить эмоции, испытанные в замкнутом пространстве в период локдауна.


2. Сообщество и участие
Самый яркий пример паблик-арта, который позволил молодому поколению одновременно «включиться» и задуматься о вечном, — проект «Без названия (Скейт)», созданный одной из ключевых фигур феминистского искусства, художницей Барбарой Крюгер.

В 2017 году для скейт-парка Коулмана в Нью-Йорке Барбара интегрировала в архитектуру площадки всего несколько фраз: «Кто надеется?», «Кто боится?», «Кто влияет?», «На чьей стороне правда?» и «Чего хочешь именно ты?». Броские слоганы и афоризмы выполнены шрифтами Futura Bold Oblique или Helvetica Ultra Condensed. Яркий и заметный текст работает по принципу рекламного плаката и обращает внимание на разные проблемы, включая потребительство или вопросы сексуальности.
3. Осознанность и замедление
Публичное искусство предлагает время для паузы и рефлексии. В городах, где все подчинено скорости, яркий мурал или неожиданный паблик-арт порой заставляют остановиться и переключить внимание с дел на собственные мысли. Художественные объекты возвращают пространству человеческий масштаб, напоминают, что улица — не только про движение, но и про проживание.

Мы не могли не вспомнить о «Большой античной голове» авторства Аристарха Чернышева. Объект паблик-арта представляет собой парафраз скульптурной головы Александра Македонского, у которого вместо лица — анимированный знак «загрузки» изображения. В рамках проекта «В Москве, о Москве, для Москвы» «голова» была выставлена перед спуском к Подземному музею в парке «Зарядье». Скульптура призывает задуматься о судьбе монументов, устанавливаемых сегодня: насколько они уместны и что их ждет в будущем? Сейчас арт-объект желающие могут наблюдать в подмосковном парке Малевича.
Еще один важный арт-проект — работа скандинавского художественного дуэта Майкла Элмгрина и Ингара Драгсета «Ухо Ван Гога», реализованный в Нью-Йорке в 2016 году. Художники предложили установить у входа в Рокфеллер-центр бассейн в стиле 1950-х годов, напоминающий антураж двориков элитных особняков в Калифорнии.

Арт-объект был умышленно установлен в вертикальной форме, чтобы заставить прохожих задуматься о том, что искусство окружает нас даже в самых бытовых вещах — нужно просто научиться его замечать. А поэтичное название «Ухо Ван Гога» пробуждало в наблюдателях желание «остановиться» и немного пофантазировать.
Паблик-арт в целом становится навигатором чувств, включенности и ответственности для поколения Z. Оно превращает уличные пространства в лаборатории эмоций, где каждый может увидеть, назвать и отпустить свое переживание, почувствовать себя частью сообщества, дарит паузу в ритме мегаполиса и напоминает о заботе друг о друге и об окружающей среде.
В мире, где быстрые удовольствия теряют ценность, такие инсталляции дают новый источник дофамина — глубокий, осознанный и запоминающийся. Зумеры, для которых важны экология эмоций и сопричастность, находят в таких проектах не просто красоту, а приглашение стать соавтором жизни своего города, чтобы творить собственную уникальную истории.
Софья ГришинаФото: социальные сети @leaabelon, Legion Media, fifg/Shutterstock/Fotodom.ru, архивы пресс-служб
Больше интересных статей здесь: Новости.
Источник статьи: Искусство как новый дофамин: почему зумеры выбирают впечатления вместо быстрых удовольствий.